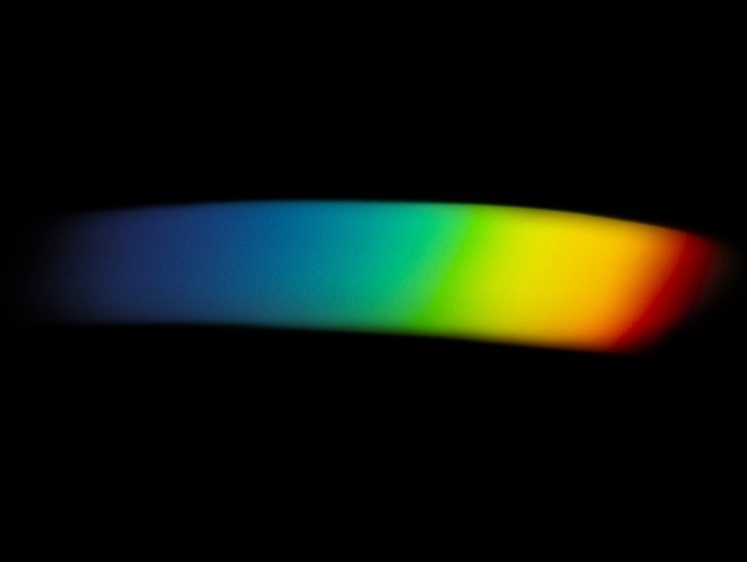— Ты знаешь, жалко мне их, я за глухарями больше не ходок. Ну, может, сына свожу, если попросит, а нет, так и не судьба значит. Пусть токуют. Заросло там все.

Фото Michael Bamford /flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)
Игорь долго смотрел в темное окно, казалось, в воображении прокладывал путь сквозь лес.
— Я случайно нашел ток. Уже май начался, трава ожила. Там место темное, осины старые, мшистые. Помет токовой у глухаря белый, и он как бы в линию раскидан, не кучей, как обычно. Проверить только через год удалось. Птицы вообще человека не боялись. Отдельная история. Потом расскажу.
Лампочка на потолке под желтым тряпичным абажуром светила слабо, в большой избе сумеречно.
Русская печь занимала много места, но давала ровное и мягкое тепло. Пахло дымом и солеными огурцами.
Молодой апрель мял снег оттепелями и дождями, но пока не окреп южными ветрами, справлялся слабо — сугробы были большими.
Вокруг на многие километры только заснеженные леса, зарастающие березняком поля и овраги, полные воды.
— Ночевали в лесу. От деревни можно и сразу идти, но это уже, когда вода сойдет. Очень рано выходить надо, к току без сил подойдешь. Решили идти вечером, ночевать неподалеку. Ток по светлому не так трудно найти, если знаешь, разумеется. Хотя там бурелом, орешники непролазные, но все же можно. Ночью не так оказалось…
Игорь, небольшой, с седой круглой головой, стоял у стола, говорил нервно, выдавая рассказ порциями, замолкал вдруг внезапно, размышляя, стоит ли говорить о давно прошедших событиях.
— Снег еще везде. На старой вырубке оттаяло немного под елкой. Там костер развели. Я прошел, пока не стемнело, топором засечек наставил метров на сто, чтобы направление удержать. Степан со мной был, ради него и пошел, на ток просился.
Натоптали, вокруг костра болото. Наломали лапника. Легли спать. Холодно. К теплу тянешься. Все боишься ногами в костер залезть. Вальдшнепы всю ночь тянут.
На бревенчатых, отполированных временем стенах в рамах висели старые фотографии; люди, с большими руками, по-солдатски вытянутыми вдоль тела, напряженно пытаются что-то высмотреть в настоящем.
— Что смотришь? — Игорь кивнул на фотографии. — Уже давно нет никого, даже не знаю где и похоронены… Ну так вот. Промаялись часов до двух. Это только кажется, что апрельской ночью тепло, трясло, аж зубы щелкали.
Встали часа в три. Снег, вода, ветки по лицу хлещут. Поначалу высвечивал зарубки, а потом потерял. С фонарем под ногами еще что-то видно, а вдаль — нет, только путает, с ним как в коридоре. Выключу свет, смотрю вверх, по характеру леса пытаюсь понять, где мы…
Перед печью была маленькая кухонька, отделенная от общей избы синим крашеным буфетом, за стеклом которого видно несколько рюмок резного стекла и белела стопка тарелок. Чуть ниже, на открытой части, лежала пачка старых, уже слежавшихся журналов и стояла одинокая чашка с отбитой ручкой.
У печи ведра, на них телогрейка. Веяло какой-то неполной жизнью, чем-то временным, сезонным, как и сама охота. Только тепло печи оттесняло накопившуюся за зиму сырость, успокаивало возрождающейся жизнью.
— Степан спрашивает, а кто это здесь еще ходит? Это он про следы на снегу. Да, говорю, тут много вообще ходят. Толпы! Короче, на свой ход и вышли. Кружимся. Тут и я приуныл. Снег, вода, завалы. Куда идти? Думаю, хватит метаться. Сели на осину павшую. Давай света дождемся. Сидим. Стынуть начали.
Слышу, самолет загудел. А самолеты — у них трасса, с востока на запад — к Москве всегда одинаково летят. Тут у меня будто в голове что-то перещелкнулось, я понял, где находимся. Рядом. И метров через сто я услышал глухаря.
Щелчки, будто ветки кто ломает. А потом как шелест тихий или скорее звук, — он пощелкал пальцами в воздухе, подыскивая сравнение, — когда точат нож об нож. Это, знаешь ли, пока не скажут тебе — вот она самая главная глухариная песня, когда он слеп и глух — и не обратишь внимания.
В углу, по диагонали от печки, на полке стоят пустые киоты, в тусклых латунных окладах темнеют провалы — икон нет.
Игорь заметил мой взгляд, отозвался:
— Здесь много по домам лазили. Первые воры прошли еще в советское время, в семидесятые. Аккуратно работали, не громили ничего, только иконы. Замечали, по приезде, что оклады пустые, не сразу, кто через неделю, а кто и вовсе от соседей…
Чуть светать начало, — продолжал он. — Деревья темные. Снег вокруг, сырой, тяжелый. Я Степану отдал ружье, патроны. Дал песню послушать. На ухо нашептал, как подходить. Помни — ты должен обязательно услышать начало и конец точения. Говорю, давай за мной, но не повторяй шаги, а его слушай.
Парой вообще не стоит подходить, ошибки умножаются на два. Но надо было показать, как это делать. Через десяток шагов дал знать — иди один.
Вощеный потолок в избе, блестящий, цвета гнедой лошади, был единственным пустым пространством. На полу лежал кусок рваного серого ковролина, на белой табуретке посреди комнаты громоздился пузатый телевизор со следом пятерни на пыльном экране.
— Остался под осиной. Слушал. Глухарь пару раз замолкал. И надолго. Запевал вновь. Ног в резиновых сапогах, несколько раз забитых снегом, уже и не чувствовал.
В углу, у высокой железной кровати с блестящими набалдашниками, на стене прикреплена репродукция — Ленин выступает под широким красным знаменем, рука его обращена куда-то в темный угол избы.
— Среди тишины выстрел грохнул как взрыв, даже не знаю, как сказать. Я не выдержал
и побежал. Недалеко, только снега по колено. С левой руки у меня лужа огромная. Серая вода со снежной жижей, а из нее, как коряга, голова глухаря торчит. Он не утка, сбитый с крыла утонул в воде. Я кричу — добей!
Выстрел — фонтан воды — мимо. Сдают нервы, начинаю орать — какого черта ты попасть не можешь! Срываю с себя телогрейку, прыгаю, накидываю на глухаря. Выношу на сухое место и сворачиваю шею. Стоим в рассветном лесу, робко начинают петь птицы. Чувство, будто ты что-то оборвал в этом мире. Все — больше на глухаря не хожу.
Сергей махнул рукой и вышел из избы в знак того, что не хочет обсуждать тему. И тут я услышал, как вкрадчиво тикают часы-ходики, на жестяном циферблате которых изображена медведица с тремя медвежатами.