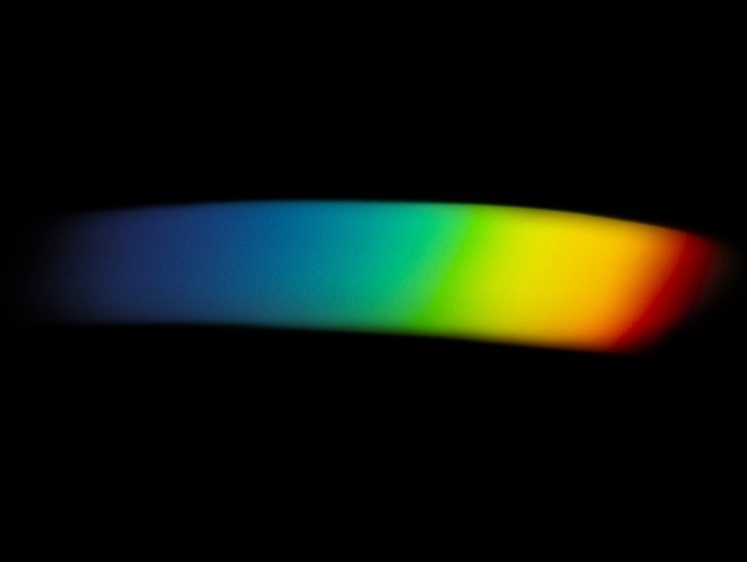В июньской публикации “Российской Охотничьей Газеты” (N№ 24, 2000 г.) под заголовком “Животные Дальнего Востока ценятся на вес золота” сообщалось, что, по данным пресслужбы Дальневосточного фонда дикой природы, прибыль от подпольной торговли флорой и фауной российского Дальнего Востока сейчас занимает в мире вторую позицию, уступая лишь наркобизнесу.

фото: Мухамедшина Рафаэля
3а десять лет на Дальнем Востоке образовались преступные международные синдикаты, имеющие прибыль в сотни тысяч долларов от контрабанды шкур тигров, медведей, внутренних органов животных, имеющих спрос в восточной медицине, дикоросов.
С подобного рода деятельностью человека мне пришлось столкнуться в семидесятые-восьмидесятые годы, когда работал на Дальнем Востоке, изучая охотничьи угодья этого региона. А занимались этим современные “хунхузы” — жители Северной Кореи.
Дело в том, что корейцы на основании правительственного соглашения между СССР и КНДР занимались рубками леса на нашей территории. Работали они из половины, т. е. 50% заготовленного леса оставляли нам в оплату за использование сырьевой базы, а остальное вывозили на родину.
Заготовка леса в дальневосточной тайге была их основной, официальной, стороной деятельности на территории Российской Федерации. Но существовал и другой, незаконный, её аспект. Для людей, так или иначе связанных с тайгой, он не был секретом.
Во всяком случае, региональные власти знали, но закрывали глаза.
Изнанкой официальной деятельности корейцев в дальневосточной тайге был отлов кабарги. И не только её, но сейчас речь пойдет о ней. Кабарга — самый маленький олень нашей фауны. Причем единственный среди оленей, самец которой имеет клыки и не имеет рогов.
Самое ценное, что есть у кабарги, — это большая мускусная железа, именуемая в просторечье “струёй”. Железа — и слава этого зверя, и его трагедия. Она имеется лишь у самцов и расположена на брюхе в области паха.
Вес её в зависимости от возраста животного колеблется от 20 до 50 граммов. Мускус имеет сложный химический состав, а его биологическое назначение, по-видимому, связано с размножением и маркировкой границ занимаемого участка.
В восточной медицине он используется как тонизирующее средство, а в парфюмерной промышленности как компонент духов, закрепляющий стойкость запаха. По разным источникам стоимость одного килограмма кабарожьего мускуса на мировом рынке составляет 5-10 тысяч долларов, а на черном — и того больше.
Стоит ли удивляться, что кабарожья “струя” — вожделенный объект охоты человека. Причем именно охоты незаконной, ибо официальная стоимость этой продукции в наших заготовительных организациях (по крайней мере, в годы моей работы на Дальнем Востоке) была до смешного мала.
Ловят кабаргу обычно наиболее простым и доступным способом — с помощью петель. Поскольку питается этот зверь в основном древесными лишайниками, а при передвижении пользуется тропами, эти две биологические особенности и используются людьми для его отлова.
Петли устанавливаются в завалах или у специально срубленных, обросших лишайником деревьев, среди ветвей которых для этой цели проделываются “окна”.
Как же фактически корейцы занимались промыслом кабарги? Бригада лесорубов, похоже, этим не занималась, поскольку официально такой промысел для них запрещен. И руководители на нарушение закона пойти не могли.
Как говорили мне знающие люди, от бригады “отпочковывалась” небольшая группа из двух-трех человек, которая “растворялась” в дальневосточных дебрях. В результате в тайге появлялась таинственная группа браконьеров, судьба которых была в их собственных руках.
И если вдруг с ними что-то случалось и они пропадали, никто их не искал. Если же ловили и передавали в руки правосудия, соотечественники от них отказывались, “не узнавая” и не неся за них никакой ответственности. Они жили и действовали на свой страх и риск, они были вне закона! И это обстоятельство в определенной степени развязывало руки всем недовольным их деятельностью.
Попадая в тайгу, удивляешься вездесущности корейцев. Куда бы ни пошел, повсеместно встречаются следы их пребывания. Как-то вместе с коллегой мы решили обследовать верховья отдаленной реки, где, как нас уверяли, не ступала нога человека.
С огромным трудом преодолев заснеженный перевал, мы “свалились” в вершину реки и тут же обнаружили корейские затеси на деревьях и настороженные петли, в одной из которых находилась уже погибшая кабарга. И так повсюду.
Дальневосточная тайга оказалась в сетях рокового преступного промысла, организованного корейцами. Размах его поражает воображение: это тотальная операция, направленная на уничтожение вида. В результате её численность кабарги на Дальнем Востоке катастрофически сократилась.
Можно ли после этого удивляться негативной реакции русских охотников на подобную деятельность корейцев? К тому же на совести этих скитальцев и грабежи охотничьих избушек. Наш сосед по участку, приехав осенью на промысел, застал убегающих от избушки корейцев, уже разграбленной, а вокруг гниющие туши кабарги.
Промысловики живут в своих зимовьях 2-3 месяца в году, пока идет осенне-зимний промысел пушнины. В остальное время избушки бесхозны, чем и пользуются современные “хунхузы”.
Но строят корейцы и свои собственные укрытия, которые язык не поворачивается назвать избушками. На одно из них я случайно натолкнулся в тайге в конце октября. Мой маршрут пролегал через верховья одного из притоков Каранака в Хабаровском крае.
Как-то, скользнув взглядом вниз по склону сопки, я обратил внимание на лежащий в снегу предмет необычного для тайги синего цвета. Сойдя с тропы, наклонился и поднял … миску. Оглянувшись, рядом обнаружил кружку, а чуть поодаль “избушку”. Вернее, потайной “скит”, мимо которого я, не замечая его, проходил неоднократно.
Пристанище корейцев располагалось под поваленной елью и имело размер 1, 75 на 1, 75 метра. По высоте оно доходило мне до пояса. “Скит” был сложен из пяти венцов тонких бревен с выпиленным со стороны ручья проемом, который был завешан мешковиной. Крыша состояла из жердей, покрытых полиэтиленовой пленкой, забросанной сверху для маскировки ветвями.
Проникнуть в “скит” можно было только согнувшись в три погибели, а внутри лишь сидеть, да и то упираясь головой в потолок. Внутри помещения располагались нары на высоте 10 см от земли в расчете на двух человек.
Слева от входа находилась “печка” в виде перевернутого металлического ведра, в дне которого сделано отверстие и вставлена труба, выходящая на крышу. На камнях лежал кусок железа с небольшим отверстием. На нем стояла пустая консервная банка, предназначенная для приготовления пищи.
К потолку был подвешен мешочек с рисом. В полиэтиленовом пакете на полке лежали спички корейского производства. На другой полке торчал огарок свечи и консервная банка с солью. У печки валялись пустые пачки из-под сигарет и нарубленные топором дрова.
Вспомнив, что мне нахваливали качество корейского риса, я взял для пробы кружку зерна и несколько коробков спичек для коллекции, а в следующий поход все восстановил за счет отечественной продукции.
Рис сварил, вернувшись в избушку, но кашу есть не смог из-за специфического “одеколонного” запаха, видимо, от кабарожьего мускуса. До конца полевых работ я всякий раз, проходя мимо, навещал корейское убежище. Но хозяева в нем так и не появились. По всей видимости, доставшийся им обход был велик.
Вообще же корейцев в тайге мне встречать приходилось. Случилось это на реке Анконне в Амурской области. Правда, это были не браконьеры, а законопослушные лесорубы. Пишу об этом, чтобы подчеркнуть “холодоустойчивость” корейцев, которой был тогда поражен.
Встретившиеся мне в тайге корейцы были одеты в хлопчатобумажные брюки, короткие резиновые сапоги, телогрейки, под которыми виднелись рубашки с расстегнутым воротом. На головах простые армейские шапки. Подумал — вот это закалка!
Было начало ноября, утренние температуры под тридцать градусов мороза стали обычным явлением, что в сочетании с умеренным северным ветром делало погоду очень жесткой. И я это хорошо ощущал на себе. Моих же собеседников, казалось, такая погода совершенно не смущала.
По рассказам охотников-промысловиков, быт корейских лесорубов был очень суров. Жили корейцы в наскоро построенных из бревен и плохо утепленных времянках — многоместных бараках, внутри которых по бокам располагались сплошные нары.
Отапливались такие сооружения железными печками, сделанными из бочек. Но иногда применялись и более экзотические агрегаты из толстых дуплистых деревьев, видимо, изнутри чем-то выложенных. Температура зимой в бараках всегда была бодрящей.
Сказанным я хочу подчеркнуть неприхотливость корейцев, обеспечивающую возможность их существования в экстремальных условиях зимней дальневосточной тайги.
Масштабы промысла кабарги, которым занимались корейцы, были таковы, что проверять петли часто не было возможности. Поэтому мясо погибших животных в пищу уже не годилось, а на качестве мускусной железы это, по-видимому, не отражалось.
К тому же, как я уже упоминал, мускусная железа бывает лишь у самцов. Поэтому попавших самок просто выбрасывают — петли не обладают выборочностью отлова.
Недовольные корейским беспределом русские охотники-промысловики неоднократно жаловались в административные органы на местах, но результатов это не принесло.
Властные структуры дальневосточных регионов не хотели портить отношения с “братской социалистической страной”, принося в жертву “духу интернационализма” интересы собственного народа.