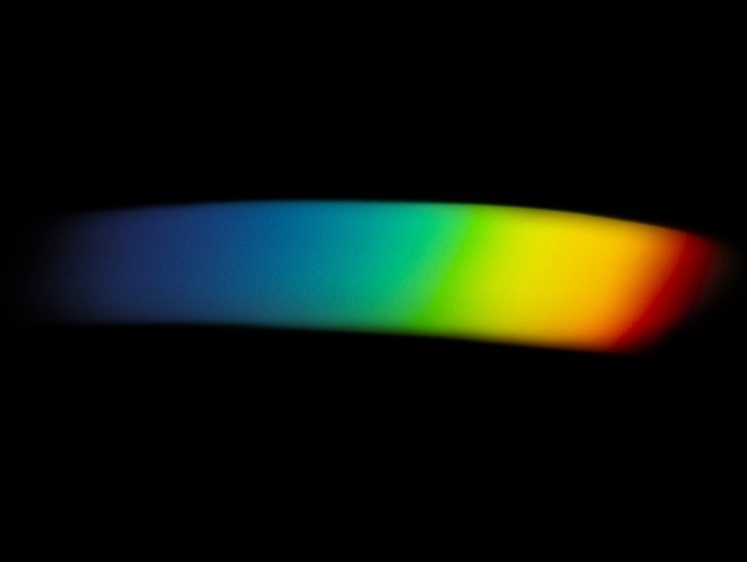Вскоре мы сидели под стожком сена на закрайке колхозного поля. Кругом простор, звенели птички, стрекотали кузнечики, легкий ветерок волнами гладил поспевающий овес, разгоняя комаров. Высоко в небе перекликалась пара ястребов. Благодать… Мы пили водку за свое спасение, за удачную вылазку по орехи и просто за жизнь. Степан оказался мужиком запасливым.

Фото Pixabay
Проснулся я оттого что под боком в ребро упиралось что-то твердое и мешало повернуться.
Оказалось, что сплю я в стоге сена, под боком приклад Степашиного раненого ружья, и сам он посапывает носом где-то у меня в ногах.
Я сразу вспомнил предложение Степана заночевать тут, в стоге сена, на природе, а не шарахаться по деревне в пьяном виде.
Я тут же согласился, потому как понимал, что родителям будет неприятно смотреть на мою пьяную рожу.
Конечно, бывало, мы с ребятами и выпивали, но, будучи под хорошим градусом, я старался домой не ходить, а ночевать с друзьями где-то в амбаре, на сеновале или вообще в клубе, благо он мог не закрываться по нескольку дней.
Чувствуя себя бодрым и готовым к походу, я проковырял в сене окошко и выглянул наружу. Было уже позднее утро. В лесу громко стучал дятел, где-то рядом истошно кричала кедровка, на остатках нашего пиршества хозяйничали два бурундука.
Я перевел взгляд на поле и обомлел. Совсем рядом, метрах в пятнадцати – двадцати, в овсе сидел крупный медведь и махал лапами. Я понял, что он подгибает стебли и, пропуская сквозь зубы колоски, обдирает зерна. Слышно было, как он чавкает.
Меня просто пригвоздило. Что делать-то, что делать?! Закричать? А где гарантия, что он убежит, а не кинется? Мысли лихорадочно метались в поисках выхода. Как он нас вообще не причуял…
Ясно, что вышел он не здесь, а в другом месте и, передвигаясь по краю, дошел до этого стожка. Высунуть Степашину базуку и пальнуть в воздух? И почему ты решил, что он будет убегать? Он, может, наоборот, кинется на выстрел, что, как я слышал от мужиков, часто бывает, и этой же мешалкой переломает нам обоими со Степаном все ребра.
Нет, я, конечно, мечтал когда-нибудь завалить медведя, но не так же, непредвиденно. Надо, чтобы я сидел где-нибудь на густом кедре метров десять над землей, а косолапый пришел да лег спать под самыми корнями, чтобы хорошо видно было. А тут… Ружье-то одностволка, и неизвестно, грянет ли оно вообще.
В голове начало проясняться. А в стволе-то жакан, а медведь-то вот рядом, а ты что, мало стрелял, что в медведя не попадешь? Надо только угодить хорошо, по лопатке, чтобы не было у него времени сообразить, что и откуда прилетело.
Я подтянул раненую базуку, тихо взвел курок и осторожно выглянул. Медведь сидел там же, спиной ко мне, ясно видимый на фоне желтого поля. Меня трясло. Я долго ловил место между передних лопаток и наконец нажал спуск. Громыхнуло.
Сквозь сизое облако дымного пороха я все-таки видел, что медведь упал в овес, там замелькали его лапы. Тут же из-под стога, на карачках, выскочил Степан. Ничего не поняв, он на четырех копытах, лихо взбрыкивая задом, устремился к полю.
Только он доскакал до края, как медведь вдруг страшно зарычал и попытался сесть. Степаша сразу сообразил, что на двух ногах бегать получается быстрее, лихо выпрямился и мелькнул мимо стога в сторону леса. Я пришел в себя и тут же устремился за Степаном.
По дороге вспомнил, что все патроны у Степана и догнать его надо обязательно. Я видел, как он впереди лихо перепрыгивал сучковатые валежины, пни и быстро увертывался от встречных деревьев.
Настиг я Степашу в огромной грязной луже. Он сидел в одном сапоге, другой торчал из грязи, и загнанно дышал.
«Здря я обернулся-то, — забормотал Степаша. — Посмотреть хотел, кто кричит-то сзади. Ты ли, не ты ли, вот и залетел в грязь-то. А знашь, пень, страсти-то какие. Видимо, лишка я маленько вчера хватил.
Сплю это я и вижу, будто на тракторе еду, доски к эстакаде везу. Вдруг баба моя, Капша, выбегает навстречу и кричит: «Ты чё вчерась дома не ночевал? Опять, поди, нажрался, паразит. Вот я тебе!
Да как швырнет мне гранату под самое что ни на есть колесо. Как она рванет, и трактор кверх колесами хрясь токо. Я выскочил да бежать. Немного и отбежал-то, а из-за штабеля бревен знашь кто? Ну есут твой ляс, ты не поверишь. Медведь! Да здоровый такой, копна. Ну я и наладился в другую сторону. Да-а-а… Видно, старею уж вовсе, кошмары мучить начинают!»
Пока Степан говорил, я нашел у него в патронташе запасную пулю и перезарядил ружье. «Никакой это, Степан, не кошмар», — начал я, отдышавшись. «И вовсе не Капша гранату бросила, а я из ружья в медведя стрельнул.
Он рядом со стогом на поле сидел. Близко было, вот я и понужнул. Вдруг причует да кинется… Вроде как попал. Ты сразу в лес кинулся, а я, что, один оставаться буду, да еще без патронов? Вот я от тебя и не отставал».
Степан слушал молча. Потом взял у меня ружье, переломил, посмотрел пулю, в одном сапоге пошел к луже, достал второй, обулся и изрек: «Вот ежели тебе поверить, и ты не в стрекоз со страху палил, то там, должно быть, кровь осталась. Придется нам в деревню к Палычу идти да с собаками его поискать. Вдруг найдем».
К стогу сена мы подкрадывались короткими перебежками. Впереди шел Степан с ружьем. Он так рассудил: «Это дело серьезное. А вдруг он, гад раненый-то, затаился. Подкараулит да кинется. Тут жо секунды все. Тут жо светлость и ясность ума нужна, да и трезвость рук. Это как-никак тебе не из-за стога сена по спящему медведю стрелять».
Искать медведя не пришлось. Он лежал почти там же, где я его стрелял. Все было в крови. Пуля перебила позвоночник между лопаток и, видимо, серьезно повредила внутренности. Я, конечно, ликовал в душе и чувствовал себя героем, но, смотря на Степана, радости не показывал.
Он же, с серьезной мордой, долго сидел возле медведя на корточках, вздыхал, а потом изрек:
«Да, пань, натворил ты делов-то. Как вот теперь оно тожно. Ты хоть сам-то понимашь, что заместо армии ты можешь совсем даже вовсе на север, только в вагоне с решетками поехать. У нас же и бумаги-то никакой нет. А он жо, зверь-то, под запретом, есут — твой-ляс.
А то мало их тут. Вон весь овес стоптанный. Что колхозные кони жрать будут. У вас же сарафанное радио круглые сутки работает. Дойдет до кого надо, и плакала твоя армия. А я-то потом всю жизнь виноватый буду. По-любому к Палычу надо. Мы с ним в детстве-то вместе росли.
Пусть с пастухами там поговорит. Похулиганил, мол, медведь-то на пастбище, да справку в совете выправят. Мол опасный для скотины зверек- то, а ты молчи себе помалкивай».
Скотину по осени медведи давили каждый год. Сельсовет выписывал бумагу с печатью, и Палыч, известный в деревне медвежатник, устраивал на приводе засидку.
Когда я приехал домой на выходные, отец отозвал меня в сторону и сказал, что недавно к нему приходил Палыч, принес двухлитровую банку медвежьего жира и мяса кусок. Ты, говорит, ему новый порох «Сокол» в городе доставал, а деньги не взял. Сказал, как приедет, пущай подойдет. Посидим, мол, обсудим…