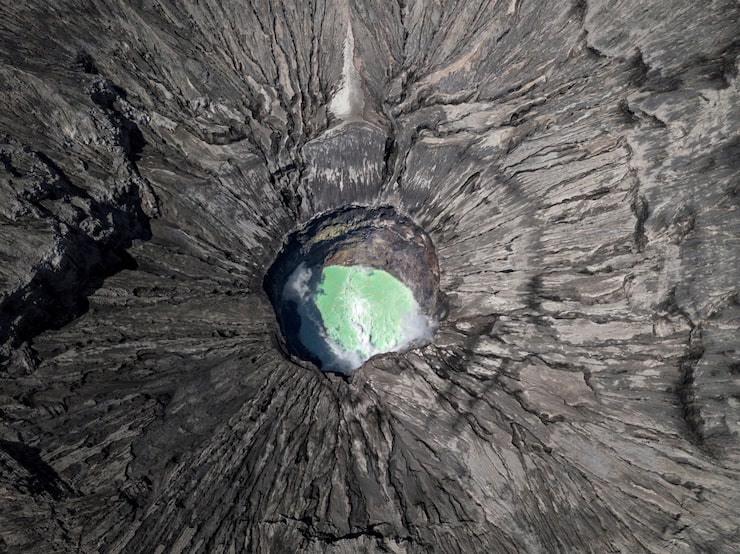Много разнообразных дорог существует в мире, достаточно на всех. Среди них есть и для тех, кто добывает: охотники, рыбаки, грибники. Их маршруты могут быть загадочными, но цель того, кто идет с ружьем или удочкой, прокладывая дорогу сквозь лесные чащи, бродит по болотным топям, карабкается на отвесные скалы, плутает по пустынным нагорьям, пробирается через скованные льдом водоемы, одна – порадовать себя и близких желанным трофеем. Этот рассказ о самых разных дорогах, которые прокладывал и продолжает прокладывать человек-добытчик.
ПРОСЕЛКИ
В основном к месту охоты или рыбалки приходится добираться по полевым дорогам – «путивцам», «путимцам», «грунтовкам». От ворот дороги отходят и к воротам и приходят. В промежутке между селами, деревнями, хуторами, заимками небольшие грунтовые дорожные участки пролегают через незаселённые земли, часто по совсем диким местам. Как у людей, у каждого проселка свое лицо, характер и свое название.
Часто рыбаки, грибники, ягодники, а иногда и охотники для достижения места сбора используют велосипеды. На таком транспорте я преодолел не одну тысячу километров на различных широтах. Понятно, не только российских. Ни один походный день, в котором я отвлекаюсь от намеченного маршрута для добычи пропитания (а это обычно рыбалка, сбор дикоросов, обследование полей и садов после уборки урожая), не обходится без того, чтобы с шоссейного пути свернуть на проселок. «Рубайте, ребята, прямо по пшенице через «перерез».
«Потом свернете чуть влево и попадете в промежок между подсолнухами. Так до обеда и добежите, куда вам нужно», — указывали дорогу нам всезнающие сельские дедки в кубанских степях. Грунтовку вдоль посадки одна бабуля назвала «боковенькой». По ней удобно ехать утром или вечером, когда солнце находится сбоку и тень от деревьев закрывает дорогу. Тряско и неудобно ехать по «щебенке», «колотью» или «булыжнику». Про такую вымощенную камнем дорогу в старину говорили: «Затем дорогу золотом устлали, чтоб она железо ела». Имелись в виду железные ободья тележных колес. С нашими ободьями вроде все в порядке, однако тряской езды по булыжнику не выдерживают спицы.
«Песчанки» и «ракушняки», дороги вдоль морских берегов, — трудное испытание как для велосипедов, так и для ездоков. Особенно если едешь с снаряжением для успешной рыбалки или возвращаешься с богатым уловом. Хорошо, что рядом море, в котором быстро исчезают заботы…
РОБКО ПО ТРОПКЕ…
В весенних плавнях шуршали и щебетали деревья. По зеленой земле я шел, и мир казался другим, непохожим на любой другой. Вдруг за стволами деревьев мелькнули черные пятна. Через несколько шагов вышел на поляну. Она была черной, словно мертвая. В центре торчали прутики обгоревших кустов. Я остановился в растерянности. Дальше дороги не было – все вокруг выгорело. Остались лишь черные остатки.
Я уже собирался обойти поляну по краю, как вдруг заметил светлую ленту, которая вилась по гари. Что это? Подошел ближе, нагнулся – тропинка! Она плавно выгибалась, пересекала пустошь и исчезала в зеленой чаще. Огонь основательно поработал на поляне, где с прошлого года сохранились сухие травы, и пролетел, не коснувшись жаркими языками земли, над утоптанной тропинкой. Она выстояла, выжила посреди огненного вихря – пламя не тронуло ее. Когда отшумел огонь, путь в плавнях стал светлее, чище, заметнее для рыбаков и охотников. Я ступал по поляне, где не зеленели травы и не цвели цветы. Шагал по тропинке – пути, который был здесь и год, и два, и десять лет назад. И не исчезнет, будет еще долго светлеть между деревьями и кустами. И будут травы и цветы! Свернув с наезженного проселка, люблю бродить по едва заметным тропкам. Неисповедимы их рассеянные причудливые маршруты. Часто эти стежки выводят к живописному берегу лесного озера, где можно посидеть с удочкой, грибной опушке, ягодной полянке, глухому буераку, где притаился зверь.
Путь добытчика – чаще всего это тропа. В широком смысле это жизненный путь человека, его судьба и предназначение. Узкие дорожные протяжения тропинок называют еще «стежками». Слово образовано от общеславянского «стьега» — тропа, дорога. Глагол «достигать» имеет тот же корень. В жизни человек-добытчик часто достигает цели, не по проторенным дорогам, а буквально по шажку осторожно пробираясь по едва заметным тропинкам, как и в лесу. Любая малозаметная нехоженая тропка может стать единственно возможным, правильным, а главное судьбоносным путем.
В диких местах добытчики разных мастей часто пользуются тропинками, а нередко приходится прокладывать их самому. В каждой местности у стежек свои названия: «Бегун», «перелет» — в степи, «проследок» — в лесу, «промижок» — между полями, «ризка» — узкая дорога для конного транспорта, «пихурка», «пиштак», «хиднык» — пешеходная тропа. Нередко добытчики-ловцы по следам зверя передвигаются по его тропе, которая особо заметна на песке и снегу.
Пословица гласит: «Где снег, там и след». У каждой птицы свои приемы движения, свой след. У серого зайчика – «малик», у лисы – «нарыск», у медведя – «переступы», у маленького зверька – «побежка». В горах разные звери встречаются по разным тропам: ходят, бегают, ползают. Впрочем, все крутые и труднопроходимые пути охотники называют «козлиными», даже не в горах. Если пути диких зверей, как и людские, непонятны людям, то направления домашнего скота знакомы каждому пастуху, каждому хозяину своего животного питомца. Например, в Карпатах «трапашем» называют зимнюю дорожку, протоптанную барашками, а «вагаш», «урма», «перть», «прогон» — это тропы, которыми гонят овец на полонину. Ходить по таким тропам неудобно.
На гладкой дороге люди могут сломать ноги, что говорить про горные тропы. Путешествуя по карпатским полонинам (параллельно собирая там грибы и ягоды), я никак не мог приспособиться к ходьбе по глубоко врезанным в землю стежкам, прикрытым сверху травой. Дорогу под ногами было невозможно разглядеть. Приходилось всё время смотреть вперед, чтобы угадать направление пути. Для нормальной ходьбы по таким тропам гуцулы раньше пользовались вместо посоха длинными древками топориков. Помогал поддерживать равновесие на крутых склонах и держать стан прямо широкий кожаный пояс с несколькими застежками.
ОВРИНГИ
«Путешественник на овринге, как слеза на реснице», — говорят на Памире, где я проехал от Хорога до Оша на велосипеде по известному Памирскому тракту. Речь идет о подвесных горных тропах-оврингах, проложенных в ущельях вдоль отвесных скал. По ним часто приходится пробираться охотникам за горными козлами. Основой многих навесных троп служили вбитые в трещины сучья крепких пород дерева, чаще всего арчи. Если не было возможности их переплести, вымостить плоскими камнями, дерном, то в отдельных местах к ним подвязывали бревна, по которым и перебирались.
Вместо бревен иногда применяли плоские корзины с песком – по ним уже не шли, а прыгали. Монолитная скала нередко препятствовала вбиванию сука в стену. Тогда овринг продолжался выше или ниже основной тропы. Необходима была постройка дополнительных мостиков, переходов, лестниц, или же путники спуская поклажу и вьючных животных на веревках. В особо опасных местах для удобства хождения над головой вбивали палки, за которые можно было держаться. Прогрессировать по таким дорогам непросто. От путников требовалась особая осторожность, сноровка, умение «чувствовать» тропу. Экипировка соответствовала сложностям пути.
Для дальних походов надевали особые полусапожки, икры ног крепко бинтовали — шаг должен быть твердым, уверенным, но в то же время мягким, ощупывающим каждый камешек, выбоинку. У горцев, имевших дело с оврингами, сложился свой дорожный этикет. Рассказывают случай, когда на тропе в верховьях Зеравшана встретились двое путников на ишаках. Животные не смогли разминуться на узкой тропе. Тогда владельцы выбрали более старого и слабого ишака и столкнули его вниз. Стоимость животного оплатили пополам. Оборудование оврингов обычно производилось кишлаками. О тропах заботились и следили за ними, как за источниками, из которых брали воду для питья.
ТУНДРОВЫЕ «ПУТИКИ»
В молодости, охваченный романтическими порывами, почти год проработал в Заполярье в нефтеразведочной экспедиции. В свободное от вахты время обычно бродил по тундре, собирая грибы или охотясь на куропаток. Целый день мотался по бочажинам, балкам, берегам речек и вышел к старой буровой. Присел на ржавый обрезок трубы, закурил и представил, как ползал, бегал, выслеживал добычу по тундре. Веткой попробовал начертить свой маршрут, так в Сибири называют путь охотника, еще — «ухожень», «ухожье». Получились завитки, зигзаги, спирали (это только те, которые смог вспомнить), что не верилось, как удалось «накрутить» их своими ногами. А между тем в переплетениях линий был свой порядок, своя четкость и логика.
Собрал грибы по пути обратно. Разноцветные шляпки сыроежек были видны издалека. Искал их с солнечной стороны бугров, и этими грибными местами был определен маршрут. Пришел в поселок и на листке бумаги набросал «грибной» путь. Он удивительно похож на кардиограмму. До этого дня и много раз потом ходил и ездил к старой буровой. И на охоту, и на рыбалку, и за грибами, и за ягодами. Ни разу не повторил свой путь. Всегда он был разным в зависимости от того, что брал: ружье, удилище или корзину.
Несмотря на старания не оставлять следов, по мху было заметить не удалось. С течением времени на склонах балок и берегах озер появились рваные полосы. Буровики ездили в тундру на вездеходах по своим делам. Все больше колеи появлялись на мхе. Гусеницы машин срывали, кромсали его, обнажая мерзлоту. Всё меньше птиц и зверей, всё больше дорог. Всё мудренее, запутаннее вензеля их. И всё больше зазубрины тундровых дорог напоминают зубцы кардиограмм после инфаркта.
ЛЕЖНЕВКИ
В сибирской тайге к местам для рыбалки на реке проложены лежневки через грязь, болото и хлябь. «По воде как по суху» — так можно сказать об них. Вспоминаю свой первый студенческий стройотряд. Занесло нас за Уральский хребет. Возле деревни Локосово под Сургутом мы разбили палатки. На следующий день в лагерь явился местный начальник и сказал: «Будете строить лежневку. Знаете, что это такое?» Мы естественно не знали. Он объяснил: толстые бревна – вдоль, тонкомер – поперек, сверху земля – вот и вся премудрость. И на следующий день в тайге застучали топоры.
Многие из нас впервые держали их в руках. Пот, мозоли, комары, мошкара – всего этого досталось с лихвой. Валили деревья, стягивали стволы к реке и сплавляли к причалу, откуда начиналась лежневка. Строили ее на совесть: «нянчили» каждое бревнышко, тщательно обработанные топорами стволы укладывали ровно и плотно, для надежности сверху по краям придавливали настил хлыстами, скрепляя их с нижними бревнами проволокой. Лежневка вышла на загляденье – будто домотканый половик для встречи дорогих гостей раскатали к реке. Позже в Сибири, Заполярье я не раз вышагивал по «деревянным» дорогам.
У геолога и барда Александра Городницкого есть песня про Север: «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы». Это именно о таких бревенчатых и дощатых протяжениях сказано. Кстати, гати (накаты) – дороги через болото или затопленный участок суши, настил через трясину — являются одним из самых древних типов дорожного покрытия и были известны человеку ещё в каменном веке. На Волыни «накат» до сих пор называют дорогу, выстланную жердями-«лагунами», на которые сверху клали толстые доски-«мостницы».
БРОДЫ
В путешествии по Скандинавии я взял с собой спиннинг и где было возможно, пытался ловить рыбу. Водоемов в этом северном крае хватало. Однажды в Карелии, откуда и начался мой скандинавский вояж, я два часа безуспешно ловил на одной речке. Уже собирался уходить, как из кустов вынырнул местный житель.
— Тут тебе ничего не обломится,- сказал, когда я рассказал ему о своей неудаче.- Спустись чуть ниже, там поперек реки Куриный брод, стань посредине и рыбачь. Только бросай ниже по течению, там и глубины, там и рыба…
Соблюдая совет карела, мне улыбнулось рыбацкое счастье — я поймал достойного экземпляра щуки.
Народ говорит: «Не зная броду, не суйся в воду». Часто рыбакам приходится преодолевать такие места. Брод – это дорога под водой. Я вырос на Днепре, где жили запорожские казаки. Как известно, казаки были искусными рыболовами. Рыба для них была обычным продуктом, как хлеб для селянина- гречкосея. Увлекшись их историей, я обратил внимание на то, как казаки передвигались по Днепру. Запорожцы, добывавшие рыбу в днепровских плавнях, хорошо знали водную систему Великого Луга, особенно мелкие участки водоемов, которые можно было перебрести пешком.
Даже широкие реки имели переходы-броды, доступные как для всадников, так и пешеходов. В греческих источниках упоминается о том, что скифы перегоняли крупный рогатый скот через мелководный Керченский пролив, известный в античность как Боспор, то есть «бычий брод». Из летописей известно существование бродов и на Днепре. Во время засухи река могла мелеть настолько, что даже овцы переходили реку вброд. С древнейших времен самым знаменитым был Протолчий брод. Архара, Бандура, Паперушка, Прогной, Дедок, Сухой, Черный, Раскопанка – все эти названия плавневых бродов использовали казаки. Казаки отлично ориентировались в плавневом водном пространстве и точно знали время года и места для перехода через водоемы. Среди врагов ходили рассказы о казаках-лугарях, свободно передвигавшихся по залитым водой плавням. Нередко разведчики, прячась в чаще, с изумлением наблюдали казаков, словно тени, бесшумно скользивших по туманным озерам. В случае бегства от врага через топья и болота, по плесам и протокам, используя броды, сечевики могли пересечь плавни и вернуться домой.
ВОЛОКИ
Во время рыбалки в низовьях Днепра я заблудился в камышовых дебрях. Чтобы быстрее добраться до большой воды, решил протащить резиновый челн по суходолу, который хорошо известен моим предкам-рыбакам.
Для передвижения судов между речными системами использовали волоки – не просто водораздельные участки, а продуманные пути, удобные для перетаскивания. Древнегреческий волок Диолк длиной шесть километров служил соединительным звеном между Эейским и Ионическим морями. Петр I перевозил суда из Белого моря в Онежское озеро. На маршруте «из варяг в греки» известен был Смоленский волок – путь между притоком Западной Двины и Днепром. Перетаскивали суда, как правило, на бревнах-«катках». Ряды сторожевых укреплений на волоках именовались «воротами». Город Вышний Волочек в Тверской области получил название по волоксу между рекой Цна (бассейн Балтийского моря) и Волгой. В Сибири староверы-охотники часто перетаскивают свои легкие челны-долбленки из одного озера в другое, пробираясь по заболоченным участкам с островами клюквы.
ЗИМНИКИ
Люди и природа создают дороги. Зимник – дорога, которую можно использовать только зимой при отрицательных температурах. Для устройства зимника снег уплотняют ( «набойная» дорога) и разгребают, а на реках намораживают ледовые переправы. Чаще всего зимние дороги проходят по замёрзшему льду рек и озёр. По сибирским непроходимым таежным и болотистым местам проложены десятки тысяч километров временных зимних дорог.
По этим дорогам передвигаются рыбаки – азартные любители подледного лова и охотники- добытчики пушнины. Я давно мечтал совершить путешествие по одному из зимников. Выбрал необжитую Сибирь, «зимняя» карта которой вся прострочена ледовыми дорогами. В основном это реки, впадающие в Ледовитый океан. Тысячекилометровый Анабарский зимник проложен по реке Анабар от поселка Удачного до расположенного на побережье моря Лаптевых поселка Юрюнг-Хая. По нему я и проехал.
В дороге от местных водителей услышал много историй про особенности прохождения зимников. Для езды по ним нужна особая техника и соответствующий опыт у водителей. Не говоря уже о дорожниках, что обслуживают зимние дороги, людях, для которых зимний речной путь единственная ниточка связывающая их с цивилизованным миром. По первому льду на зимниках обычно идут самые опытные находчивые водители. Иногда, когда другого выхода нет, приходится двигаться по хлипкому ненадежному льду. Тогда поступают так: к ножу бульдозера, который идет впереди, для увеличения площади опоры прикрепляют длинное бревно. Концы его лежат на лыжах, которые бегут по льду по бокам машины.
Перед использованием трактора на тонком льду, особенно там, где глубина большая, нередко вырезают крышу над кабиной и сверху крепят широкую толстую доску, зафиксированную изнутри поясом тракториста.
ТОННЕЛИ
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но не всегда так. Умный, находчивый, смекалистый, упрямый, чтоб сократить путь себе и потомкам, пробьет гору, проложит дорогу сквозь ее недра. Так возникли тоннели. В памяти — преодоление разных тоннелей. Запомнился норвежский горный тоннельный экстрим. По своеобразию маршрута, новизне и остроте впечатлений он наряду с викингами, морской рыбалкой, северным сиянием вполне может быть одной из туристических завлекаловок Норвегии. Нет числа норвежским тоннелям.
На 60-километровом участке дороги от Сталхейма до Флома насчитывается 47 тоннелей. Между Бергеном и Осло проложен самый длинный автомобильный тоннель мира – Леэрдал длиной 24,5 километра. Прохождение этого подземного коридора не для всех. В машине ты находишься под защитой крыши и приборов, а главное – скорости, с которой преодолеваешь путь. На велосипеде же совсем другое телесное и душевное состояние, которое находит отражение в мыслях. Урчание мотора, шорох шин, сигналы – обычные автомобильные звуки – под низкими сводами тоннелей превращаются в гул, грохот, свист, вой (в зависимости от вида транспорта и его количества).
Цунами, лавина, небесный гром, орудийные залпы, рев самолета, аварийная сирена, крушение поезда – ассоциации у каждого свои, настолько глубоко эти образы пронизывают наш опыт. Непосредственно на протяжении всего пути тревога и чувство опасности не покидают тебя. Когда же в грохоте, огненных вспышках, дымных клубах и метании теней навстречу движется кавалькада мотоциклетных викингов, приходит даже мысль о космических пришельцах. В тоннельной замкнутости, холоде и сырости ты словно находишься на пути в другое измерение. Несколько минут (или часов?) назад ты покинул солнечный, ясный, привычный и понятный мир в самых малых сущностях.
Что ждёт дальше – загадка. Но есть надежда… Вдали маячит свет.