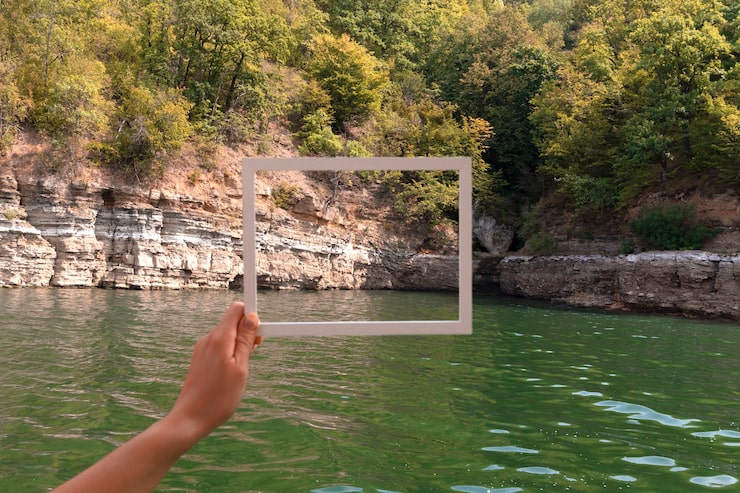С конца ноября в специальные цистерны доставляют розовую треску с Лофотенских островов, когда она наиболее нежная и вкусная. Для ценителей существует служба доставки этой трески домой. Привозят живую рыбу, которая живет в бочке с морской водой во время транспортировки.
В это время года часто у домов можно увидеть полную резервуар и водителя достающего из него извивающуюся рыбу, которую аккуратно передают радостному покупателю.
Я была свидетельницей этого действия и затем видела, как мастерски мой знакомый художник разделывал еще живую рыбу, извлекает печень и варил её в особой алюминиевой кастрюле.
Вкус «печени трески» совсем не похож на привычные с детства советские консервы.
В Норвегии так любят треску, что даже расстаться с ее язычками не могут. На рыболовных судах специально обученные работники (чаще всего студенты) вырезают язычки, которые считаются деликатесом. Для человека, незнакомого с норвежской кухней, это может выглядеть как странная кучка на тарелке. Даже если попробовать крошечные языки величиной с ноготь, вряд ли кто-то поймет, что именно вкусного находят в них, ведь у тресковых язычков вообще нет вкуса.
Копченая, соленая, вяленая и вымоченная в щелоке рыба — традиционные составляющие норвежской кухни. Так, непременным блюдом на Рождество была и есть лютефиск — вымоченная в щелочном растворе вяленая на солнце рыба, которая по своей консистенции напоминает желе. У лютефиска специфический запах, и сами норвежцы до сих пор с ехидством смотрят на иностранцев, которые часто никак не могут отважиться попробовать это «нечто», политое гороховым соусом и украшенное жареными ломтиками бекона. У меня оно не вызвало никаких сомнений и опасений, и, должна сказать, моя смелость была вознаграждена — вкус действительно отменный, а в глазах друзей-норвежцев я стала «своей».
Норвежская треска являлась важным продуктом питания и источником дохода для северян ещё со времён викингов. В Средние века её из Северной Норвегии массово привозили в Берген и продавали ганзейским купцам, которые снабжали ею всю Европу.
Её обычно перевозили соленой, вымоченной в щелочи или сушеной. Само норвежское слово «torsk» происходит от древнескандинавского глагола «сушить» и связано этимологически с богом Тором.
Треска обитает практически по всей длинной береговой линии Норвегии. Её непритязательность к пище считается одной из главных причин её широкого распространения. Норвежцы шутят, что треска думает только о двух вещах во время плавания среди водорослей: еде и размножении.
При обнаружении места с обильным количеством пищи она пасется там до его исчерпания, а затем ищет новый участок обитания, переходя на новые «пастбища». Треска — прожорливый хищник, питающийся другими видами рыб, но не отказывается от мидий, ракообразных и морских ежей.
В старину, когда люди не доверяли прогнозам о погоде по радио и телевидению, наблюдали за природой, которая помогала предсказывать погоду. Так, на Севере было принято подвешивать сушеную треску к потолку.
Люди верили, что у рыбы есть врожденная способность поворачиваться против ветра и задолго до изменения погоды предсказывать приближение шторма. Для этого рыба должна была быть настоящей «королевской» треской. Считалось, что это отдельный вид – королева косяка с сплюснутой головой, будто после надетой короны.
Сегодня известно, что «королевская треска» — это обычная треска с деформацией головы, придающей рыбе необычный вид. Если поймали «королевскую треску» и хотите использовать ее в качестве «оракула», нужно выпотрошить и почистить её, голову оставить. Когда она высохнет, подвесьте её к потолку на тонкой нити, прикрепленной к переднему спинному плавнику – и всё готово, теперь остаётся только наблюдать за ее поворотами.
Когда рыбаки отправлялись на ловлю рыбы подальше от дома, обязательно брали с собой «королевскую треску», которая могла предсказывать погоду и приносить удачу. Выловленная «королевская треска» гарантировала рыбаку удачу в море, торговле и продаже рыбы до конца жизни.
С треской связано множество примет и суеверий. С помощью «слуховой косточки» (отолита) можно было погадать и узнать о предстоящей погоде: большая сторона отолита отвечала на вопрос «да», меньшая — «нет». Для этого достаточно было задать вопрос о погоде и бросить кость в воздух.
Норвежские рыбаки верят, что важно во время рыбалки не произносить слово «треска», потому что она может услышать и не брать на крючок. В норвежской области Вестре-Моланде говорят: «Теперь у тебя есть дедушка», когда треска первый раз клюнула.
Выезжайте на рыбалку перед Новым годом только с целью поимки трески: она обещает удачный улов весь год. Если же первым поймали пикшу или другую мелкую рыбу, лучше воздержаться от рыбалки в этом году.
При медленном клеве трески произнесите заговор: «Приходи, треска серая, и держись, и плыви ко мне, треска белая, быстрее клюй». Забрасывая удочку, скажите: «Перережу шею большой рыбе!» и трижды плюньте на крючок. Если во время рыбалки началась буря, новежцы полагают, что можно прекратить плевок против ветра (но сначала оцените безопасность такой меры).
Любой, кто ловил треску, знает о белой плоской «ните», которую норвежцы называют «нитью сидения». На самом деле это солитер. Эта «нить» эластична.
Норвежские рыбаки раньше заметили, что концы сокращаются при растяжении и сжимании неодинаково. Именно это помогало им определять место большого улова. Сжимающийся больше конец «нити» указывал на скопление больших косяков трески.
Известная в Норвегии с давних времен, треска не считалась распространенным блюдом в Европе и даже вызывала сомнения у многих. На церковном соборе в Тренто 1551 года архиепископ Адольф решил удивить гостей разнообразными блюдами из трески. Священники отказались от незнакомой еды, кроме нескольких итальянских епископов, которые рискнули попробовать ее.
Аристотель полагал, что у трески с рождения в голове находился камень, из-за чего ей приходилось бороться за жизнь интенсивнее, чем остальным рыбам. Зимой камень становился ледяным, и чтобы не погибнуть от холода, треска вынуждена была погружаться на большую глубину.
Еще одна «страшилка» связана с обнаружением в ее желудке человеческих останков. Норвежская легенда гласит, что в старые времена трупы часто выбрасывало на песчаный берег залива Баллесвик. В темные штормовые ночи обитатели расположенной неподалеку рыбацкой деревни слышали ужасающие крики.
Рыбаки говорили: «Это не опасно, это просто Ханс Адриан бродит по берегу». Знали о том, что давным-давно один старик нашел человеческие кости в желудке большой трески и бросил их в лодочном сарае. На следующий день услышал, как они жалобно стонут в эллинге.
Старик спрятал ужасное открытие в кишку рыбы и зарыл. С этого момента около деревни доносились страшные вопли, но Ханс Андриан вреда никому не делал.
Треска всегда пользовалась спросом на Севере из-за своей печени. Из нее получали рыбий жир для обработки кожи и ламповое масло. Но все это было до открытия пользы рыбьего жира для здоровья человека. В 1775 году установили, что его можно применять в качестве лекарства, а с 1825 года – во многих европейских странах.
Сушеная желчь трески хранилась в её чистых желудках и служила лекарством как людям, так и животным от болезней желудка.
Самое удивительное, что в Средние века норвежская треска говорила на «баскском языке», которого никто не знал, кроме басков, живущих в северо-западной Испании. Много столетий баски продавали ее по всему миру в виде высушенного и соленого полуфабриката. Долгое время было неясно, где ловили треску. Однако в 1497 году путешественник Джон Кабот обнаружил, что возле Ньюфаундленда «пасутся» сотни баскских рыболовецких судов, добывая в тайне треску.
В книге «Треска — биография рыбы, которая изменила мир» Марк Курландски утверждает…
Мясо трески практически не содержит жира (0,3%), а белка в нём больше 18%, что необычайно много даже для рыбы. Высушенная треска теряет 80% веса из-за испарения воды и превращается в концентрированный белок – его содержание достигает почти 80%.
От трески почти не остаётся отходов. Голова этой рыбы вкуснее тела: особенно ценна мясистая часть нижней челюсти, которую называют языком, и маленькие диски мяса по бокам – щеки. Плавательный пузырь, регулирующий глубину погружения рыбы, используется для получения рыбьего клея, применяемого в промышленности как осветлитель или для столярных работ.
Традиционно добывающие треску народы едят плавательный пузырь: жарят, тушат или добавляют в суп. Также употребляют икру — свежую или копченую. Рыбаки с Ньюфаундленда ценят гонаду самок трески – раздвоенный орган, который называют «штанами» из-за сходства формы с брюками.
Эти «штаны» жарятся так же, как плавательный пузырь. Исландцы и японцы употребляют молоки трески. Желудок, требуха, печень — всё это тоже едят, а жир, добываемый из печени, дополнительно богат витаминами.
Исландцы наполняют желудки трески печенью и варят до мягкости, а затем употребляют, как колбасу. Кожу трески используют в пищу или выделывают для пошива изделий. жарят ее и подают с маслом, угощая детей. Несъедобные внутренности и кости служат удобрением; до XX века жители Исландии размачивали кости в кислом молоке и ели их.
В средние века треска получила известность из-за поста, введенного католической церковью. К XVI веку рыба приобрела международное политическое значение. Из-за добычи трески в прибрежных водах Норвегии и Исландии возникали споры между Англией, Францией, Португалией и Испанией.
История помнит несколько «тресковых войн». Споры о рыболовных угодьях в Атлантике между Англией и Францией стали одной из причин Столетней войны (1337—1453). Настоящая тресковая война началась в 1532 году между Англией и Ганзейским союзом после убийства английского рыбака в Исландии.
Название «Тресковые войны» связывают в первую очередь с Исландией и Англией, а также с конфликтом 1958—1976 годов, который возник из-за прав на рыболовство в Северной Атлантике.
Во время Первой тресковой войны Исландия увеличила исключительную рыболовную зону с 4 до 12 морских миль. Британия не признала новые границы и направила военные корабли для защиты своих траулеров. Конфликт закончили временным соглашением.
В ходе Второй войны (1972—1973) Исландия расширила зону до 50 миль и запретила применение траловых сетей. Происходили столкновения: исландские суда перерезали сети британских судов, на что получали ответ таранами. НАТО вмешалась в ситуацию для предотвращения обострения конфликта.
Третья война (1975—1976) стала самой опасной, когда Исландия установила 200-мильную зону, а береговая охрана применяла «кусачки для сетей», разрушавшие британские тралы. Такая тактика стала символом конфликта и эффективным средством давления. Из-за угрозы выхода Исландии из НАТО Великобритания капитулировала.
Конфликты из-за трески также происходили в Норвегии, где причиной служила борьба за рыболовные ресурсы Баренцева моря и вокруг Шпицбергена. В 1920-х годах между Норвегией и Россией возникли споры из-за того, что норвежские рыбаки незаконно вели промысел у Новой Земли, не считаясь с суверенитетом РСФСР.
В девяностых годах двадцатого века Исландия оспаривала исключительные права Норвегии на рыболовство в зоне Шпицбергена протяжённостью 200 миль, ссылаясь на Парижский договор 1920 года. В период с 1994 по 1996 год норвежская береговая охрана останавливала исландские траулеры, а Исландия угрожала вооружённым конфликтом. В 1999 году Россия, Норвегия и Исландия подписали соглашение о квотах на вылов рыбы.
В период с 2021 по 2025 год между Норвегией и ЕС возник новый этап напряженности, связанный с рыболовством. После выхода Великобритании из Евросоюза ЕС перераспределил квоты на ловлю рыбы, что Норвегия посчитала нарушением своих прав. В 2021 году Осло пригрозил арестами судов ЕС у Шпицбергена.
К 2025 году конфликт ухудшился: Норвегия усилила контроль за судами ЕС и России, введя строгий мониторинг портов. Норвежская сторона ограничила ловлю в своей экономической зоне, ссылаясь на защиту молоди трески. По данным 2025 года до 90% молодой рыбы проживает в российской зоне, но мигрирует к норвежским Лофотенам для нереста, что послужило причиной давления на российские суда отказаться от лова.
Треска сохраняет свою экономическую важность. Рыболовство приносит норвежской экономике 5% ВВП и 10% от объёма экспорта, а для стран ЕС играет важную роль для промышленных морских городов.
В Арктике разгорается конфликт из-за трески, корень которого кроется в стратегических интересах ключевых региональных игроков, выходящих за рамки рыболовства и затрагивающих геополитику. Таяние льдов к 2025 году увеличило пропускную способность Северного морского пути на 45%, сделав его потенциальной альтернативой Суэцкому каналу, а контроль над рыболовством усиливает позиции в спорах о юрисдикции над СМП.
Разногласия вокруг рыбных ресурсов отражают борьбу за изменение арктического ландшафта под воздействием климата и геополитических сдвигов.