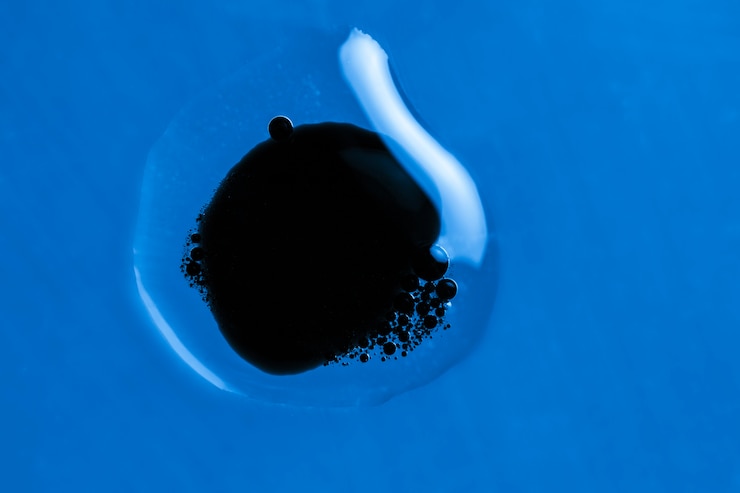Расположение курка снизу на ружья вызвали нарекания драгунов: прицеливание требовало держать руку слишком далеко впереди, курок часто вместо затравочного стержня бил по руке, практически у всех стрелков при выстреле обжигался обшлаг левого рукава.
Некоторые стрелки располагали ружье между спусковой скобой и курком, прижимая локоть левой руки к груди, что снижало точность выстрела.
Стержень для пороха, находившийся внизу, часто вызывал недовольство: с него случалось падать капсулы. Солдат, у которого чувство тактильной чувствительности было ослаблено, обязан был перевернуть винтовку, чтобы надеть капсулу.
Заряжание системы считалось простым, но склонным к загрязнению. Даже незначительная грязь в отверстии затворной части мешала плотному повороту запирающего цилиндра, требуя его извлечения для очистки.
Малый шомпол, подающий заднюю пулю вперед, оказался длинным, из-за чего между порохом и пулей образовался зазор. Заряжание было неудобным, требовало больших усилий. Хотя удары колотушкой по шишечке малого шомпола не были необходимы, как в 1863 году в Вильне, после десяти выстрелов у стрелков немели от боли большие пальцы, и последующая стрельба становилась затруднительной.
Из представленных на испытания четырех ружей удобным было лишь заряжание в четырёх. Что касается меткости, то стрелки, хорошо стрелявшие из 6-линейных винтовок, получали худшие результаты из ружей Грина даже на близких дистанциях. Драгуны обратили внимание на слишком сложный прицел.
Остальные несоответствия касались обслуживания ружья. Шомпол для выбивания пули после выстрела был слишком коротким и его приходилось выпутывать…
В результате маневра инструмент вышел из строя.
Ружье для драгунов было очень тяжёлым. Драгунское дульнозарядное нарезное 7-линейное ружье обр. 1854 года имело вес без штыка 3,54 кг, а с штыком — 3,92 кг, что на 770 г больше, чем «Грин» (без учёта веса штыка).
Чистка ствола была весьма удобной. Необходимо было только извлечь цилиндр-затвор, как сразу открывался весь канал ствола. Это представляло собой явное преимущество по сравнению с дульнозарядным оружием, которое до этого использовали драгуны.
Для чистки нижней поверхности ствола от ложи приходилось каждый раз выкручивать затравочный стержень, что в отечественных 6-линейных винтовках допускалось только в мастерских.
По мнению драгун, существенным недостатком было трудность проталкивания запирающей пули вперед и тонкая бумага патронов.
Испытания лейб-гвардейскими драгунами показали, что ружья Грина не соответствовали ожиданиям. В чём причина этого провала? Неудачная система, недостаточные навыки работы с ней или полная непригодность личного состава? Ответ на эти вопросы поможет найти ещё один пример тестирования двухпульной системы.
Испытания проходили в учебной сотне Кубанского казачьего войска под руководством поручика Парамонова — талантливого офицера. Его действия во время тестирования высоко оценили специалисты ГАУ и рекомендовали «самого полного внимания». Данные испытания, самые серьезные из всех проведённых, позволили получить истинную картину.
В учебную сотню поступило 144 ружья. Кроме полигонных испытаний, проверку требовалось провести и в боевых условиях — на передовых позициях и в действующих отрядах. Результаты проверки были отражены в отзыве командующего войсками Кубанской области, начальника главного штаба Кавказской армии от 24 января 1864 года.
Гринские ружья из-за большой тяжести и длины оказались неудобными для использования кавалеристами, а отсутствие боевых действий в Кубанской области сделало невозможным их испытание.
Парамонов и казаки с ружьями тщательно осматривали их в оружейной мастерской в разобранном виде и пристреливали на 200 шагов (142 м). Для изучения нового ружья и получения навыков его использования формировали команду из десяти человек.
Будущих учителей готовили к службе в будущей испытательной команде. По этой программе лишь казаки-кубанцы мастерски умели обращаться с оружием Грина, что позволяло использовать его на полную мощность.
В целях сравнительных испытаний с 6-линейными (15,24 мм) казачьими винтовками Парамонов разделил две команды: первую снарядил ружьями Грина, а вторую – шестилинейками. Условия тестирования оставались одинаковыми для обеих групп.
Изделия Грина были совершенно новыми ружьями, поэтому для испытаний 6-линейные винтовки выбрали неиспользованные, только что доставленные из-за границы. Их также тщательно осмотрели и пристреляли на 200 шагов.
«Грины» продемонстрировали свои капризы практически сразу… При сдаче казакам пришлось принять ружья такими, какие они были: по внешнему виду без отчистки застывшего масла и пыли для детального осмотра. Время было холодным, ружья хранились в надежных укупорках в сарае запасного артиллерийского парка.
Привезли их туда, где обнаружилась легкая ржавчина, безвредная, но… открыть затвор было невозможно. Температура воздуха составляла –10 °С, поэтому ружья пришлось отогревать. Как выяснилось позже, эта техническая неприятность могла повторяться: скапливающаяся смазка от осаленных патронов также замерзала на морозе, и затвор оставался неподвижным.
Изучение использования «Гринов» выявило, что детали разных моделей не взаимозаменяемы из-за плохого качества американских комплектующих, устанавливаемых вручную. Сложная конструкция затрудняла разборку оружия. Но ружья обладали прекрасными стволами с отличным каналом. В то же время казачьи шестилинейки отличались от «Гринов» положительными параметрами во всех аспектах.
Не удивительно, что ружья Грина показали лучшую кучность. Интересно, что все соответствовали высочайше утвержденной инструкции, разработанной для приема 6-линейных винтовок: пулевые пробоины в мишенях на 200 шагах не выходили за рамки 14 дюймов по высоте и 10 дюймов по ширине. Из 50 казачьих винтовок только шесть удовлетворяли этим условиям.
Стволы ружей и винтовок проверялись свинцовым цилиндром длиной полдюйма. Если у ружей наблюдались задержки движения цилиндра, то они были незначительны. Винтовки же иногда тормозили цилиндр настолько сильно, что его приходилось продвигать ударами руки. Малая кривизна шейки приклада винтовок делала их отстрел менее комфортным по сравнению с «Грином».
Стрельба из ружей Грина казаки освоили легко, даже не очень образованные. Сразу же поняли и правила использования прицела, который лейб-гвардейцам давал затруднения. Парамонов во время обучения использовал не военные термины, а слова, знакомые казакам. После того как он назвал уступы прицела «горками», а деления «метками», все стало ясно.
Прицел Грина для непривычных к чтению казаков был прост и понятен.
В остальном Парамонов переходил на «язык казаков», например, спуск назывался «палицей», затравочный стержень — «цилиндрою», нарезы — «резом» и т.п.
Устройство ружья и правила его применения освоили очень быстро, а вот обучение неопытных казаков шестилинейкой вызывало затруднения, особенно в части заряжания и чистки. В процессе обучения помогали два урядника, окончивших курс Стрелковой тифлисской школы.
В конном строю казаки предпочитали винтовку, так как ружья Грина, имевшие вес в 4,31 кг, оказались тяжелее на 830 г по сравнению с весом казачьей винтовки (3,48 кг). Несмотря на то, что винтовки казаков были дульнозарядными, а «Грин» — казнозарядным, Парамонов пришёл к выводу, что на коне ружье Грина удобнее из-за простоты заряжания. Кроме того, его можно заряжать во время скачки или на другом аллюре, в отличие от 6-линейной винтовки, для которой это невозможно при правильном заряжании.
Результаты стрельбы доказали более высокую меткость ружья Грина. Проверили скорость заряжания обоих видов оружия, включая прицельную стрельбу на расстояние 600 шагов. Из ружья Грина в минуту производилось 2,75 выстрелов, из которых в мишень попадало 0,36 пуль. Из казачьей винтовки делали 2,3 выстрела, однако в мишень попадало всего 0,07 пули.
Парамонов сообщал, что при стрельбе с винтовками образца 1891 года команда выпускала пули на воздух для ускорения перезарядки. Впоследствии испытания повторили при участии начальника штаба войск Кубанской области. Получились более высокие показатели: за минуту из «Грина» на дистанции в 600 шагов из 2,69 пуль в мишень попадало 0,5 пули, а из винтовки «казачки» — из 1,75 попадало 0,31.
За ходе стрельб подсчитывали количество осечек, однако никакой особенной закономерности обнаружено не было. Только отмечено, что осечки выдавали ружья с менее мощной боевой пружиной независимо от типа системы.
В отчёте Парамонова есть интересный фрагмент, который отличается от официальной версии истории двухпульных систем в России. Поручик полагает, что принятие двухпульной системы не состоялось лишь из-за прочности применяемых патронов. Прочность эту Парамонов изучил необычным способом.
С ружьем Грин отправился из Ставрополя к укреплению Усть-Лабы, расстояние до которого составляло 200 верст. Ехал он в экипажах на перекладных; на одной станции ему достался экипаж с «не совсем круглым колесом».
Благодаря хорошей выносливости патрона к тряске сделано заключение о его пригодности для кавалериста, испытывающего более слабые толчки.
Четыре из десяти патронов стерлись там, где бумага прикрывала края картонного кружка. Во время перевозки патронов из Усть-Лабы в Екатеринодар на 60 верст в специальных ящиках не было обнаружено никаких повреждений.
При всех испытаниях патроны продемонстрировали высокую прочность, исключение составляли случаи разрыва, которые происходили исключительно по причине неосторожности стрелка, забывающего перед выстрелом продвинуть пулю вперёд.
Не пропустили и замерзание осалки. Оружие зарядили и оставили на 23 часа в мороз. Каморы открывались нормально, стрелять работало хорошо. Трудностей появилось при попытке продвинуть заднюю пулю вперед. Из пяти ружей с патронами сильнейшей осалкой пуля продвинулась только в двух; из пяти со слабой — в четырех.
В обычных ситуациях хватало легких прикосновений к рукоятке цилиндра. Однако теперь пришлось использовать силу ударов, так как новые патроны отказывались попадать в ружье и разрывались при усилии.
Замерзшее сало представляло собой шероховатую поверхность, где передвижение происходило с трудом. После подогрева неразряжённых ружей (на час их поставили на раскаленную печь) выстрелы становились точными.
Выводы Парамонова весьма интересны.
В ружье ему не понравилось:
1) невозможность использования в мороз;
Спуск курка снизу приводит к падению капсюля и осложняет прицеливание.
Пять ситуаций возникало, когда открыть камору было невозможно без разборки ружья. Причина заключалась в самооткручивании гайки под гнетком: она попадала под пружину, отвечавшую за защелкивание каморы. Оказалось, что гайка, предохраняющая гнеток от выкручивания, совершенно не нужна. Выпавшие гайки завернули в бумагу и положили в гнездо приклада вместе с протиркой.
Понравилось в ружье Грина следующее:
Заряжать дульнозарядную винтовку приходилось только стоя, тогда как ружье Грина можно было заряжать в любой позе.
2) удобное разряжание;
Прицел замечательный, превосходит тот, что у казачьих ружей.
4) лучший спуск, чем у казачьих винтовок;
Система Грина проста в уходе и надежно защищает ствол канала.
Из пятидесяти стволов Грина после годичного испытания ржавчины ни у одного не было, у казачьих винтовок же ржавчина канала ствола наблюдалась у четырнадцати из пятидесяти, преимущественно в казенной части.
Система Грина работала превосходно среди казаков, но её функционирование в сильный мороз охарактеризовал Парамонов как «удручающий результат», что стало основным аргументом против этой системы.
Испытания убедительно доказали: такую систему нельзя принять без модификаций. В период бурного развития стрелкового оружия появилось много перспективных систем, улучшение ружей Грина больше не считалось актуальным.
История орудия с овальной нарезкой канала ствола завершилась. В наше время такие системы снова появляются, но не благодаря своим преимуществам, а из-за пробелов в законах. По всей видимости, теперь их вновь ждут времена забвения.